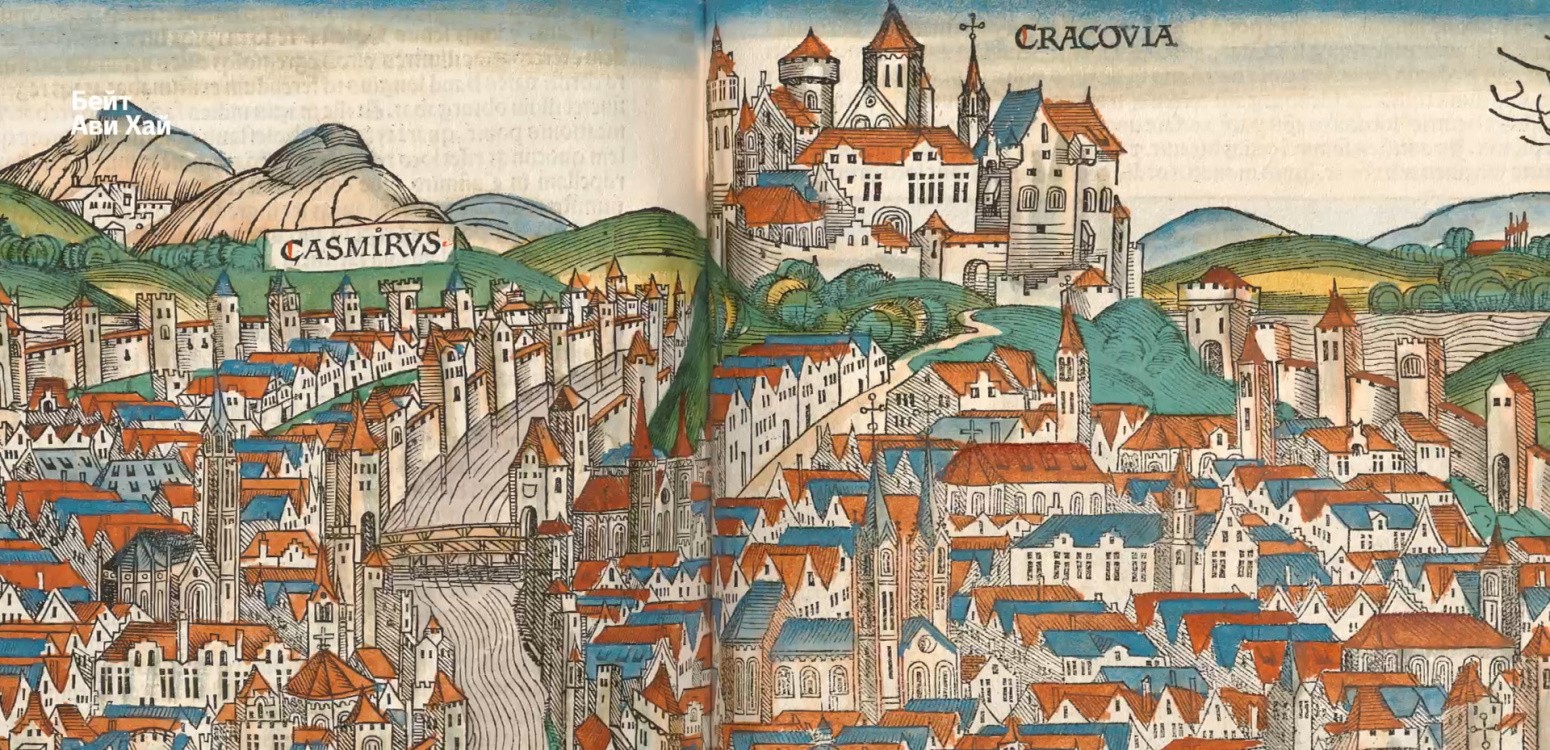
Армия и технологии
- Лев Ганкин
- Давид Гендельман
Здравствуйте! Меня зовут Лев Ганкин. Два с половиной года назад я приехал в Израиль — и первым делом решил познакомиться с моей новой страной с помощью песен, которую здесь пели и играли в последние 100 лет. Из этого получился подкаст «Кумкум. Плейлист», который мы делали вместе с проектом «Идеи без границ» культурного центра Бейт Ави Хай. Но жизнь не стоит на месте, и, хотя я все еще изучаю израильскую музыку, а также осваиваю иврит, спустя два с половиной года мы всей семьей уже «вросли» в Израиль намного глубже. В частности, моей дочери недавно пришел так называемый «цав ришон» — грубо говоря, повестка в военкомат. Это значит, что года через полтора-два ей, как и почти всем израильским подросткам, предстоит пойти служить в армию. Как и в каком качестве — мы пока не знаем, но, разумеется, заинтересованы в том, чтобы поскорее понять, как в Израиле устроена армейская служба и чего от нее ожидать.
Именно эти соображения натолкнули меня на идею создания нового подкаста из серии «Кумкум» — того, который максимально широко рассказал бы новым репатриантам об Армии Обороны Израиля: о ее теории, о практике, о том, из чего она состоит и как функционирует, о положении дел непосредственно в вооруженных силах страны и об армии как институции, с которой так или иначе оказывается связана в Израиле повседневная гражданская жизнь.
Это — первый из десяти запланированных нами выпусков. В каждом из них будет немного разный фокус: поговорим об армии в контексте науки, культуры, социологии, экономики, языка и не только. Важный момент: я, разумеется, не эксперт в этих областях, а, наоборот, — кумкум, чайник. И потому во всех эпизодах подкаста я буду общаться со специалистами и, прежде всего, — с Давидом Гендельманом, известным израильским военным экспертом, который любезно согласился выступить в роли своего рода внешнего куратора этого проекта и поделиться своими знаниями. И для начала мы поговорим с ним о том, как устроено взаимодействие между Армией Обороны Израиля и цветущим израильским технологическим сектором. Вот лишь несколько вопросов, интересующих меня в этом выпуске: что такое кибервойска в ЦАХАЛе и как они устроены? Кто и где разрабатывает высокотехнологичные инженерные решения, которые использует израильская армия? Как попасть в престижные программы академического резерва? Как функционируют вооруженные силы в условиях так называемой «нации-стартап», как принято называть Израиль? И изменилось ли отношение военного руководства страны к научно-техническим инновациям после 7 октября?
Давайте попробуем во всем этом разобраться.
Лев Ганкин (Л.Г.): Какая самая известная разработка израильской военной промышленности? Готов дать голову на отсечение, что большинство людей, которым зададут этот вопрос, назовут «Кипат барзель», или «Железный купол», — уже по-своему легендарную систему противоракетной обороны. В значительной степени благодаря ей я сейчас сижу в студии и записываю этот подкаст, а вы сидите у себя дома и его слушаете. В производстве «Железного купола» участвуют сразу несколько компаний: так, радары поставляет фирма «Эльта», а систему управления — фирма «mPrest». Но основной производитель — компания с красивым именем «РАФАЭЛЬ»; с этим названием неизбежно сталкивается любой, кто проявляет хоть какой-то интерес к израильской оружейной промышленности. Правда, художник эпохи Возрождения тут абсолютно ни при чем: как и многие другие термины, с которыми мы имеем дело в Израиле, слово «РАФАЭЛЬ» представляет собой аббревиатуру. Что это за аббревиатура? Подробнее об этом — и об истории так называемых «научных войск» в нашей стране — в комментарии Давида Гендельмана.
Давид Гендельман (Д.Г.): В 1948-м году, когда было провозглашено государство Израиль и была создана Армия Обороны Израиля, были созданы, в том числе, научные войска, которые так и назывались хейль ха-мада, научные войска. Они разрабатывали различные бомбы, снаряды, кумулятивные заряды, гранатометы. По тем временам это был такой хайтек. Примерно в этом формате они просуществовали до 1952-го года, когда решили, что такие научные разработки надо перевести из армии на более высокий уровень — в Министерство обороны. Там было создано «Управление исследований и планирования», которое просуществовало до 1958-го года, после чего возникло агентство «РАФАЭЛЬ», то есть Рашут ле-Питуах Эмцаэй Лехима — «Управление по разработке вооружений». И в таком виде «РАФАЭЛЬ» занимался оборонными разработками до 2001-го года, когда из него сделали коммерческую фирму, но всем пакетом акций владеет государство до сих пор.
Л.Г.: Сегодня «РАФАЭЛЬ» — это внешний экономический субъект, не входящий в армейскую систему; один из трех китов израильского ВПК наряду с «Эльбит» и «Таасия Авирит». А внутри самой израильской армии есть структуры, отвечающие за научно-технический прогресс?
Д.Г.: В 1982-м году создали Управление, которое существует до сих пор, «МАФАТ», Управление научно-исследовательских работ по разработке вооружений и технологической инфраструктуры. И «МАФАТ» — это орган, который курирует всю оборонную исследовательскую деятельность хайтека. Если появляются новые разработки, которые могли бы пригодиться армии, он занимается их закупками, либо сам инициирует процесс, примером чего может служить, например, широко известный «Железный купол».
Л.Г.: Главная специфика «Железного купола» — разумеется, в том, что он способен перехватывать небольшие ракеты малой дальности.
Д.Г.: До начала этого проекта многие специалисты считали, что технически это маловероятно. Системы противоракетной обороны, конечно, существовали, был рейгановский проект «Звездные войны» в 1980-е годы, и уже в конце 1980-х годов начался израильский проект «Хец», но все это было рассчитано на перехват баллистических ракет, которые летят тысячи километров. А здесь речь шла об очень мелких ракетах, которые пролетают всего несколько километров, и нужно решить сразу несколько задач: мгновенно определить траекторию, решить, какую ракету сбивать, какую нет. Это одна из важных особенностей системы управления «Железного купола», если снаряд летит в чистое поле, мы его вообще не сбиваем для экономии ракет-перехватчиков. Но если мы решили его сбить, то нужна очень маневренная ракета-перехватчик.
Реальные разработки начались уже после Второй Ливанской войны 2006-го года, когда Хизбалла выпустила за месяц больше четырех тысяч ракет, это впечатляющее количество. Сразу после войны тогдашний министр обороны Амир Перец решил резко продвинуть эту тему, поднять «Железный купол» на уровень национального проекта, в первую очередь, разумеется, выделить финансирование, и после этого в 2007-м году тот же «МАФАТ» передал «РАФАЭЛю» техническое задание на разработку. После этого проект взяли в работу, все двигалось ударными темпами, так что уже в 2011-м году «Железный купол» встал на вооружение.
Л.Г.: В случае с «Железным куполом», таким образом, инициатива разработки принадлежала «МАФАТу». Но бывает и наоборот: военно-промышленная компания или технологический стартап осуществляет разработку, а в армии, в свою очередь, приходят к выводу, что это полезная новинка, и договариваются о закупке и использовании. Причем речь может идти не только о противовоздушной обороне, в которую, кроме «Купола», входят, в частности, системы «Кела Давид» и «Хец», то есть, в переводе с иврита, «Праща Давида» и «Стрела». Перечислить все израильские инновационные военно-технические разработки в рамках одного короткого разговора представляется невозможным. Ярон Кац из технологического института Холона в статье «Влияние технологий на национальную безопасность: изучая культуру военных инноваций в Израиле» называет, например, EyeBall — оснащенный 360-градусной камерой шар размером с теннисный мячик, который закидывается в помещение, где может прятаться противник, прежде чем туда войдут солдаты. Давид Гендельман, в свою очередь, обращает внимание на систему управления огнем SMASH (на иврите — «Пигьон») от компании Smart Shooter. Если объяснять максимально просто, то это мощный апгрейд для стрелкового оружия — как оптический прицел, но с поправкой на высокие технологии XXI века. Включающая цифровую камеру и «бортовой компьютер» с баллистическим вычислителем, система SMASH засекает движущиеся цели — к примеру, беспилотник противника, — высчитывает траекторию полета, определяет точку прицеливания и позволяет солдату с максимальной вероятностью сбить цель. При этом, если шансы на поражение цели невелики, система, наоборот, блокирует выстрел — чтобы попусту не расходовать боеприпасы.
Все это — впечатляющие достижения инженерной мысли, для разработки, а порой и для управления которыми необходима соответствующая подготовка.
Д.Г.: В командовании сухопутных сил есть так называемая хатива технологит, то есть технологическое управление, которое занимается именно разработками в области сухопутных вооружений. Соответствующие есть и в ВВС. Если мы говорим о тех, кто служит в таких подразделениях, как внутри самой армии, так и в «МАФАТе», то понятно, что просто призывника туда не поставишь, разве что на какие-то обслуживающие должности. В 1950-м году была создана система так называемого академического резерва, атуда академит. После школы, вместо того, чтобы идти сразу в армию служить обычным солдатом, можно получить университетскую степень по интересующей армию специальности. Об этом предварительно договариваются с армией, армия дает разрешение, и не только разрешение, но и финансирование, иногда полное, иногда частично, потому что обучение в университете стоит денег. Можно получить степень инженера в той или иной сфере, по ходу дела на каникулах между курсами университета также проходят «Курс молодого бойца», и знакомство с различными родами войск.
Таким образом, инженер идет в армию уже инженером и служит там, куда его распределят. Это может быть в самом «МАФАТе», может быть в тех или иных технических подразделениях армии, где занимаются не разработкой, а обслуживанием, либо иногда он вообще всю службу занимается каким-то совместным проектом с гражданскими оборонными фирмами.
Л.Г.: Позже было решено, что обыкновенного «академического резерва» недостаточно, и в израильской армии придумали своего рода «академический спецназ».
Д.Г.: Да, в 1970-е годы, после Войны Судного дня, решили, что помимо обычных академаим, то есть таких людей академического резерва, нужно создать специальные программы подготовки, самой крутой из которых считается программа «Тальпиот». Это не просто университетская программа. Это трехлетний спецкурс подготовки по физике, математике или компьютерным наукам, а также офицерский курс. Выпускники становятся офицерами и одновременно лидерами технологического развития, элитой, спецназом.
Л.Г.: В 2016 году американский писатель и журналист Джейсон Гевирц выпустил книгу о «Тальпиоте», Israel’s Edge: The Story of the IDF’s Most Elite Unit в которой, в частности, изложил учебную программу «академического спецназа». Первый год: 11–12 недель подготовки, затем — два учебных семестра, длящихся до 34 недель. Дополнительные 5–6 недель — посещение разных подразделений армии и офицерская подготовка. Цель: заложить основу для навыка решения проблем с помощью углубленного изучения математики, физики и информатики. Второй год: 36 недель обучения, до 3 месяцев визитов в разные подразделения ЦАХАЛа, плюс курс десантника. Цель: достичь по-настоящему высокого уровня знаний в математике, физике и информатике (Гевирц указывает, что почти треть выпускников программы «Тальпиот» получают степень в компьютерных науках). Наконец, третий год: широкий спектр курсов, включая электронику, аэродинамику, военные технологии, военную инженерию, радары, антенны, связь, и лекции в Еврейском университете в Иерусалиме: история, история искусства, философия, еврейская и арабская культура. Цель — свести воедино все навыки, полученные в ходе обучения и тренировок, развить лидерские качества и академические квалификации. В финале от учащегося требуется принять решение о том, какую дисциплину он выбирает, и пройти интервью и отбор в соответствующее подразделение в армии.
Д.Г.: Как на все отборные программы, не только технологические, но и боевые, и любые другие, в первую очередь, призывной пункт смотрит на формальные признаки: чему и как учился в школе, сколько у тебя баллов по математике, по физике. Успешные призывники получают приглашение на отбор. Так это происходит и в случае «Тальпиот», и в случае академического резерва. Но на любую из этих программ ты можешь податься самостоятельно. Хотя понятно, что шансы там уже небольшие, но попробовать всегда можно, максимум откажут, за это не расстреливают.
Обычно каждый год набирают около 70-ти человек, а заканчивают около 50-ти, понятно, что есть отсев. Выпускники становятся лидерами в различных армейских подразделениях. Понятно, что не сразу, но постепенно они должны вливаться в реальные рабочие группы, так это было сформулировано в задачах программы с 1970-х годов. По ходу дела они проходят стажировку во всех родах войск, курс молодого бойца при десантной бригаде (понятно, что десантников из них не делают, но тем не менее). И проходят краткие курсы обучения, например, вождению танка, или они знакомятся с ВВС, ВМС. Так это определили создатели этой программы: они не должны быть оторванными от мира учеными в башне из слоновой кости, это должны быть люди, которые реально знают потребности армии, прошли это на своей шкуре и должны заниматься развитием технологий, исходя из реальных нужд.
Л.Г.: Как указывает Джейсон Гевирц, некоторые инновации, которыми Армия Оборона Израиля пользуется сегодня, ведут свою родословную именно от мозговых штурмов учащихся программы «Тальпиот». От них, вдобавок к описанному выше учебному плану, за время прохождения программы ожидается сдача нескольких «проектов». Это означает, что они должны предложить потенциальное решение некой актуальной военной проблемы — и одним из таких решений в свое время стал, например, прототип защитной системы «Трофи» для бронетехники (она же, в ивритской номенклатуре, — «Мэиль Руах», «Ветровка»). Система издалека чем-то напоминает «Железный купол» — только развернутый как бы над конкретным танком: радар определяет угрозу, компьютер быстро высчитывает траекторию вражеского боеприпаса, после чего пусковая установка выпускает разрушающий его перехватчик. Подобные решения — так называемые КАЗ, или «Комплексы активной защиты» — производят и ВПК других стран, но «Трофи» — на сегодняшний день самая продвинутая из имеющихся.
Общая продолжительность службы «академического спецназа» «Тальпиот» составляет девять лет: три года собственно программы и затем шесть лет в армии на различных позициях, включая руководящие. Важный нюанс заключается вот в чем: «Тальпиот» и другие программы академического резерва разной степени элитарности — это именно программы подготовки, а не какие-то особые подразделения Армии Обороны Израиля. Человек проходит их и затем распределяется в одно из существующих подразделений. Но, разумеется, и в самом ЦАХАЛе есть структуры с, так сказать, технологическим профилем — куда может попасть любой призывник при условии соответствия определенным параметрам отбора. Самое крупное и самое известное из таких подразделений — знаменитое 8–200 или «Шмоне-матаим».
Д.Г.: Это подразделение «СИГИНТ», то есть радиоэлектронной разведки Управления разведкой Генерального штаба. Исторически оно, разумеется, как все такие виды разведок, развилось из телефонного подслушивания. Потом начали слушать все больше и больше во всем радиоэлектронном и магнитном спектре. Короче, 8–200 — это примерный аналог того, что в США называется NSA, то есть «Агентство национальной безопасности». Еще в 8–200 занимаются кибервойной, например, разрабатывают какой-нибудь хитрый вирус и закидывают его в иранскую центрифугу. Ну это, разумеется, по сообщениям иностранных источников, мы сами ничего такого не делаем, это все разговоры. Короче, это сверх-технологическое подразделение. Но, так как оно очень большое, там реально служат тысячи человек, то есть неплохой шанс (относительно, разумеется) туда попасть. Это не то, что какой-то элитный спецназ, типа того же отбора на «Тальпиот», где буквально берут несколько десятков человек. Но там, разумеется, тоже есть разные специальности, одни занимаются чисто технологическими вопросами, другие — языковыми. Там нужно знать арабский язык, чтобы прослушивать, желательно понимать, что мы слушаем. Для этого есть специальные люди. Потом эта информация передается в аналитический отдел «Управления разведкой», где они ее внимательно анализируют.
Л.Г.: Путь в «Шмоне-матаим» и другие подразделения такого рода начинается примерно в 16 лет, когда призывник получает первую повестку. В военкомате он проходит медицинскую комиссию и получает тот или иной медицинский профиль. Но не только — еще его ждет личное интервью, а также психотехнический экзамен: ДАПАР (это очередная аббревиатура, расшифровывающаяся как «деруг психотехни ришони», первичный психотехнический рейтинг). Во время личного интервью проверяют уровень владения ивритом, пытаются понять психологический профиль, уровень мотивации, изучают, чем интересуется призывник, в каких школьных предметах он силен, чем занимается в свободное время, склонен ли он к конфликтам и так далее. ДАПАР же — это набор логических, аналитических, математических задач, призванных продемонстрировать, как, грубо говоря, у призывника работает голова. Шкала оценок здесь — от 10 до 90; при этом если оценка ниже 30, то скорее всего ЦАХАЛ просто не будет связываться с таким новобранцем. А чем выше балл, тем больше открывается разных возможностей для реализации в армии. Правда, для приглашения в тот же «Тальпиот» недостаточно набрать даже 90 баллов на ДАПАРе — из тех, кто показывает этот результат, впоследствии отбирают солдат по дополнительным показателям. Но шансы на распределение в технологические войска как раз улучшаются пропорционально результатам экзамена. Кроме того, важно и то, что и как призывник изучает в школе: в частности, физику и математику полезно сдавать на пять единиц.
А какие еще высокотехнологичные подразделения существуют в Армии Обороны Израиля, кроме «Шмоне-матаим»:
Д.Г.: Существуют, разумеется, и другие интересные цифры, например, 9–900. Это уже визуальная разведка, она занимается всем, что можно увидеть, от спутниковой съемки до различных видов аэрофотосъемок и геосъемки. Они занимаются всем, что можно увидеть глазами. Там, разумеется, тоже очень интересно. В конце концов, если есть израильский спутник-шпион, то те, кто им управляют, тоже могут увидеть интересные вещи, про которые потом напишут в газетах.
Л.Г.: Любопытная деталь про специфику подхода ЦАХАЛа к комплектованию этих подразделений: в 9–900 служат в том числе люди с расстройством аутического спектра.
ДГ: Некий кинематографический пример мы видели в фильме «Человек дождя». Там падает коробка со спичками и герой сразу говорит: «248, упало 248 спичек». Обычный человек так не может, но есть люди, которые могут, и если им дать спутниковую фотографию, возможно, они там очень быстро и очень качественно увидят что-то, что другой оставит без внимания. Такие люди тоже проходят отбор, их не очень много, для них это удачная модель интеграции, но они приносят реальную пользу, это не благотворительный проект.
Есть 8–1 — это технологическое подразделение структуры специальных операций при Управлении разведки. Как в фильмах про Джеймса Бонда был такой Кью, который делал всякие хитрые приборы для Джеймса Бонда, стреляющие ручки и прибамбасы для его автомобиля. В 1960-е годы решили, что нам нужно обеспечить прослушивание какой-то телефонной линии египетской армии на Синае, когда Синай еще был египетский. Решили, что десантники спецподразделения Сайерет Маткаль высаживаются с вертолета и должны установить прослушивающее устройство в телефонный столб. Так как это сложно, давайте сделаем свой телефонный столб со всем оборудованием, привезем его на вертолете и воткнем вместо родного. Значит, нужно было сделать такой столб со всем этим оборудованием внутри. Тогда у этого подразделения был другой номер, но это дает представление о том, чем и сейчас занимается подразделение 8–1. Это создание специальных технических средств, заточенных под узкую конкретную задачу.
Л.Г.: Что тут скажешь? Во-первых, это попросту очень интересно. А, во-вторых, полезно для дальнейшего трудоустройства в гражданской жизни — поскольку воспитывает такие ценные качества, как инициативность, готовность идти на риск, аналитический ум и то, что называется thinking outside the box, креативное мышление.
«Каждый год в подразделение 8–200 поступает новый набор молодых, умных, мотивированных и увлеченных юношей и девушек, способных посмотреть на любую проблему с нового ракурса, — говорит в интервью журналу “Форбс” Надав Цафрир, бывший командир подразделения и добавляет: — Мы ни в коем случае не говорим им, что множество людей уже пытались решить ту же самую проблему — и потерпели неудачу».
На «гражданке» Цафрир стал генеральным директором «Team8» — тель-авивского фонда венчурного капитала, занимающегося стартапами в сфере кибер-безопасности. Выпускники «Шмоне-матаим» оказываются у руля многих прибыльных компаний, в том числе тех, продукцией которых мы пользуемся каждый день — от облачной платформы и конструктора сайтов Wix до навигатора Waze. «Только в моем поколении я лично знаю более 100 человек, прошедших школу подразделения 8–200, которые основали стартапы и затем продали их за большие деньги, — говорит сооснователь Wix Авишай Абрахами. — Я называю ее «волшебной комнатой», потому что все они создали компании, достигшие средней рыночной стоимости в полмиллиарда долларов».
Д.Г.: «Как я уже сказал, для многих, возможно, это основная причина, почему они так рвутся во все эти спецподразделения. Потому что после этого ты либо сразу создаешь свой стартап, либо устраиваешься работать на какую-то продвинутую должность в уже существующих фирмах, то есть, это действительно в порядке вещей. Есть огромное количество выходцев из этих подразделений, которые потом придумали нечто, разработали стартапы, например, «Единорог», вышли на американскую биржу. Они выходят на широкий рынок, и там уже не просто армейская зарплата, там уже большие деньги.
Л.Г.: При этом многие предприниматели остаются на связи с армией и по окончании службы. Как утверждает в журнале Foreign Policy Итамар Яар, полковник запаса и бывший заместитель председателя Совета по национальной безопасности Израиля, «Между технологическими компаниями и Армией Обороны Израиля происходит постоянная игра в пинг-понг. Задолго до того, как продукт выходит на открытый рынок, компании предлагают его армии, полиции или секретным службам, и те его тестируют — порой в ходе реальных операций». В той же статье приводится пример стартапа по анализу текста с помощью инструментов искусственного интеллекта, который оказался востребован после 7 октября — фирма IntuView перевезла оборудование и мощности ближе к линии фронта и занялась анализом и интерпретацией документов, текстовых сообщений и шифровок, попадающих в распоряжение армии в ходе военных действий.
Ни один разговор об Армии Обороны Израиля сегодня не может обойтись без постскриптума, посвященного 7 октября. Как террористическое нападение на страну и последовавшая за ним война изменила взаимодействие вооруженных сил и технологического сектора?
Д.Г.: С конца 1980-х годов, особенно с начала 1990-х, возобладала концепция так называемой «маленькой умной армии», на фоне всех произошедших в мире изменений считалось, что таких больших конвенциональных войн, которые были раньше, дальше их не будет, все будет более-менее ограниченное, мелкое, антитеррористическое, самонаводящееся, блестящее и никелированное. Соответственно, такая большая армия больше не нужна. Было решено провести большие сокращения сухопутных сил, усиленно развивать технологическую составляющую.
В принципе, критические голоса против этой концепции звучали и раньше. 7 октября случилась очередная встряска. Проблема даже не в том, что построили умный забор, просто решили, что кроме него ничего не нужно. Если бы банально у границы стояло еще несколько обычных батальонов, то нападение ХАМАСа выглядело бы совершенно по-другому, даже если бы они действительно смогли полностью подавить весь этот забор с его сенсорами. Одним из выводов стало то, что нужно опять наращивать размер армии, в первую очередь, сухопутных сил, поэтому сейчас хотят увеличить сокращенный ранее срок срочной службы, и создаются новые подразделения, части и соединения.
Но тут еще раз надо подчеркнуть: не то что надо отказываться от технологий, технологии нужно всемерно развивать и дальше. Но, как в классике марксизма: есть базис, а есть надстройка, технологии были и останутся надстройкой, они не должны заменять базис, базисом по-прежнему должны быть достаточно крупные конвенциональные силы. Но, разумеется, сверху все это должно быть украшено как можно более передовыми технологиями, потому что это именно то, что называется мультипликатор силы. Сначала должна быть достаточная сила, которую технология умножает на два или на три. Но если она изначально небольшая, то и результат умножения будет небольшой.
Так или иначе, мысль, высказанная когда-то Давидом Бен-Гурионом — о том, что во всех областях, включая и военную, надо опираться на самые современные научные достижения, остается актуальной до сих пор. Да, технологии не способны сами по себе выиграть войну и разгромить противника — но в качестве подспорья для Армии Обороны Израиля они незаменимы. Нет оснований сомневаться в том, что прочная связь между военным и технологическим сектором в ближайшее время не ослабнет — а программа «Тальпиот» и подразделения вроде 8–200 и 9–900 продолжат принимать в свои ряды (а затем — выпускать из них) молодых людей, которые будут приносить стране неоценимую пользу и на фронте, и в тылу.
Это был первый выпуск подкаста «Кумкум. ЦАХАЛ»; еще девять эпизодов — впереди.







